На израненной земле
1 мая исполнилось бы 90 лет Виктору Астафьеву
Гражданин, писатель, сибиряк — таково, на мой взгляд, триединство нашего выдающегося современника и земляка. Земной путь Виктора Петровича, три четверти ХХ века, — века советского тоталитаризма с его бесконечной борьбой с «врагами народа», по-нынешнему — «иностранными агентами» и «национал-предателями» из «пятой колонны». Звериный лик СССР — в одной из последних записей писателя: «Я пришел в мир добрый, родной и любил его бесконечно. Я ухожу из мира чужого, злобного, порочного». Мира, построенного по ленинским лекалам. Ленин, который для многих до сих пор бессмертный, для Астафьева уже давно был « бес смертный» (Ю.Корякин). В романе «Прокляты и убиты» Ленин — «выродок из выродков, вылупившийся из семьи чужеродных шляпников и цареубийц, до второго распятия Бога и детоубийства дошедший, принес бесплодие самой рожалой земле русской, погасил смиренность в сознании самого добродушного народа, оставив за собой тучи болтливых лодырей, не понимающих, что такое труд, что за ценность каждая человеческая жизнь, что за бесценное создание хлебное поле».
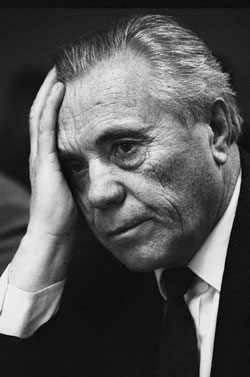 С такой же горестной беспощадностью и оценка народа, поверившего ленинским обещаниям и оказавшегося в рабстве ВКП (б) — Второго Крепостного Права большевиков: «Нет на свете ничего подлее русского тупого терпения, разгильдяйства и беспечности. Тогда, в начале 30-х годов, сморкнись каждый русский крестьянин в сторону властей — и соплями смыло бы всю эту нечисть вместе с наседающим на народ обезьяноподобным грузином и его приспешниками… Нет, сидели, ждали, украдкой крестились и негромко, с шипом воняли в валенки. И дождались!».
С такой же горестной беспощадностью и оценка народа, поверившего ленинским обещаниям и оказавшегося в рабстве ВКП (б) — Второго Крепостного Права большевиков: «Нет на свете ничего подлее русского тупого терпения, разгильдяйства и беспечности. Тогда, в начале 30-х годов, сморкнись каждый русский крестьянин в сторону властей — и соплями смыло бы всю эту нечисть вместе с наседающим на народ обезьяноподобным грузином и его приспешниками… Нет, сидели, ждали, украдкой крестились и негромко, с шипом воняли в валенки. И дождались!».
Коллективизация, репрессии, досрочно выполняемые («5 в 4») пятилетки, в том числе и так называемая атеистическая — все это социалистическое строительство окрашено людской кровью, устлано сотнями тысяч невинных жертв, уничтоженных «родной советской властью», которая искалечила детство писателя, бросила его, восемнадцатилетнего, в горнило войны, «когда, — по его горестным воспоминаниям, — в пехоте солдат мог быть в атаке 15—20 минут, в наступлении… ну, три дня. Меня вот три раза ранило, и каждый раз где-то на исходе первого десятка суток». Выживший на передовой, израненный и покалеченный, Астафьев полной мерой испытал послевоенную нищету и голод. Но он выстоял и состоялся как гражданин и писатель, остался самим собой, став воплощением совести, в христианском смысле, как «окна, через которое проникает Божественная воля» (Краткая философская энциклопедия 1994). На вопрос корреспондента: «Вы верите в Бога»? писатель ответил: «Ребенком я был крещен. Бабушкой кое-чему обучен. Я знаю, что там что-то есть. Ощущаю какую-то высшую силу».
Астафьев пишет о войне как о божеском наказании, об израненной земле, искалеченной природе, «издырявленных огнем деревеньках», об искалеченных человеческих телах и душах. На книжных страницах астафьевской прозы не услышишь воинственного «Ура!», тем более — «За Родину! За Сталина! Вперед!». Над рекой, которую форсируют бойцы-сибиряки, из уст тонущих и умирающих от ран разносится «Мама! Мамочка!».
Тяжкое солдатское лихолетье Астафьев воплотил в одном из своих лучших произведений — романе «Прокляты и убиты». Говоря о замысле книги (он возник в семидесятые годы), Виктор Петрович утверждал: «Про роман этот не я решил. Это Господь решил». («Комсомольская правда», 1993, 8 мая). Удивительно точное и философски глубокое название романа тоже имеет христианскую основу. В одной заповеди старообрядцев сказано: «Все, кто сеет на земле смуту, братоубийство и смерть, сами будут Богом прокляты и убиты». Божественное решение, осуществленное писателем, показало несостоятельность и вред мифа о войне, «где была война красившее на самом деле происходившей, где сплошной героизм, где поза, громкие слова и славословия». Вспомним первую часть брежневской «трилогии», удостоенной Ленинской премии по литературе, «Малую землю».
Астафьев пишет о войне как о божеском наказании, об израненной земле, искалеченной природе, «издырявленных огнем деревеньках», об искалеченных человеческих телах и душах. На книжных страницах астафьевской прозы не услышишь воинственного «Ура!», тем более — «За Родину! За Сталина! Вперед!». Над рекой, которую форсируют бойцы-сибиряки, из уст тонущих и умирающих от ран разносится «Мама! Мамочка!». Здесь же, в трупном смраде, — тучи воронья, крыс, мух. Обезумев от смертного страха, солдаты в панике бросают оружие, залезают в земляные норы, из которых, чтобы собрать силы для атаки, их «выковыривают прикладами и на подвиги призывают командиры».
В горестной безысходности названия «Прокляты и убиты» не только судьба сибиряков 21-го стрелкового полка, но и социальные практики советского тоталитаризма, его нескончаемой войны против своих. И жертвы, не только павшие на астафьевском «Плацдарме» Финифатьев, Леха Булдаков, юный Васконян и сотни безымянных героев романа, но и невинно убиенные в тылу, будь то доходяга Попцов, забитый на строевой, или близнецы Снегирёвы, Еремей и Серега, подвергнутые показательному расстрелу перед строем родного батальона за то, что самовольно отлучились в родную деревню по просьбе матери «молочка попить».
Сцена расстрела напоминает Дантов ад: «В розвальнях хозвзвода, спиной к головке саней на коленях стояли, плотно прижавшись друг к другу, братья Снегирёвы, сверху прикинутые конской попоной, обутые в ботинки на босу ногу… Минут через пять братья Снегиревы стояли спиной к щели-могиле, на мерзло состывшихся песчаных и глиняных комках. За могилой, приставив карабины к ноге, отдаленно маячили хмурые приезжие стрелки… Текст приговора был невелик, но вместителен, по нему выходило, что на сегодняшний день страшнее, чем дезертиры Снегирёвы, опозорившие всю советскую Красную армию, подорвавшие мощь самого могучего в мире советского государства, надругавшиеся над честью советского бойца, нет на свете… Приговор был немедленно приведен в исполнение. Трое стрелков обошли могилу перед братьями, двое охранников присоединились к ним, все делалось привычно, точно, без слов. «Пятеро на двух безоружных огольцов!» — качал головой Володя Яшкин. «Приготовиться! — скомандовал пришлый, всем здесь чуждый, ненавидимый лейтенант. Вынув пистолет из кобуры, он взвел его, поднял вверх. «Дя-аденьки-ы-ы! Дя-аденьки-ы!» — раздался вопль Сереги, и всех качнуло в сторону этого вопля. Лейтенант-экзекутор, заметив это движение, резко скомандовал: «Пли!». И был еще краткий миг, когда в строю батальона и по-за строем увидели, как Еремей решительно заступил своего брата, приняв в грудь почти всю разящую силу залпа. Его швырнуло спиной поперек мерзлой щели, он выгнулся всем телом, нацарапал в горсть земли и тут же, сломившись в пояснице, вяло стек вниз головою в глубь щели. Брат его Сергей еще был жив, хватался руками за мерзлые комки, царапал их, плывя вместе со стылым песком вниз, шевеля ртом, из которого толчками выбуривала кровь, все еще пытаясь до кого-то докричаться. Лейтенант решительно шагнул к щели, столкнул Серегу с бровки вниз. Убитый скомканно упал на старшего брата, прильнул к нему. Лейтенант два раза выстрелил в щель, спустил затвор пистолета и начал вкладывать его в кобуру».
За войну перед военным трибуналом предстало 900 тысяч человек, 100 тысяч из них постигла участь братьев Снегиревых. На передовой солдаты гибли от пуль фашистов, в тылу — «смершистов», воплощавших единую сталинско-гитлеровскую диктатуру.
Душевная тяжесть творчества Астафьева не порождает безысходности — печаль его светла: «В нашем народе, кроме пороков, выявленных ушедшим веком, прояснилось главное: если народ смял такой режим, как коммунистический, такую отлаженную систему, как ГУЛАГ, этот народ может вынести все и выйти победителем».
Этот же мотив звериной власти и в рассказе «Пролетный гусь». Молодые герои рассказа Данила и Марина, уцелевшие в войну, нашли пристанище в неказистом городке Чуфырино, где вчерашние победители — квартиранты. Чтобы поддержать умирающего от истощения и болезни маленького сына, отец вынужден охотиться на «пролетного гуся». Удача — гусь добыт, но поздно: маленький Аркаша умирает. От безысходной вины и тяжкого труда на железной дороге заболел и умер Данила. Схоронив сына и мужа, торопится к ним Марина, наложив на себя руки. И эта смерть — избавление от мучительной советской реальности, несовместимой с подлинной жизнью, жизнью-смертью. Пронзительна последняя строчка рассказа: «Шел 1949 год от Рождества Христова». И сразу в памяти: 1949 год — год семидесятилетия Сталина, коммунистического Антихриста.
Душевная тяжесть творчества Астафьева не порождает безысходности — печаль его светла: «В нашем народе, кроме пороков, выявленных ушедшим веком, прояснилось главное: если народ смял такой режим, как коммунистический, такую отлаженную систему, как ГУЛАГ, этот народ может вынести все и выйти победителем». Добавлю, как и в мае 1945-го, когда 21- летний солдат Виктор Астафьев, одолев войну, начал тяжелую битву с нашим равнодушием, черствостью, беспамятством — всем тем, что несовместимо с Божественным предназначением. Осознав это, становится стыдно и горько. Но это стыд покаянный, очищающий, а горесть рождает желание сделать что-то доброе, хорошее. Астафьевское.
Владимир Томилов, специально для «Байкальских вестей».
P.S. Иркутск Астафьеву, как и соседний Красноярск, не чужой. Младший друг писателя Геннадий Сапронов издал многие произведения В.П.Астафьева, в том числе «Царь-рыбу», «Созвучие» — музыкальную слитность двух гениев современной русской культуры, писателя Виктора Астафьева и музыканта Евгения Колобова, сборник рассказов «Пролетный гусь», эпистолярный дневник «Нет мне ответа…», великолепно оформленные и прекрасно проиллюстрированные художником Сергеем Элояном. Иркутянам есть чем гордиться.
Поделитесь новостью с друзьями:
Для добавления авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.